
Лето Господне
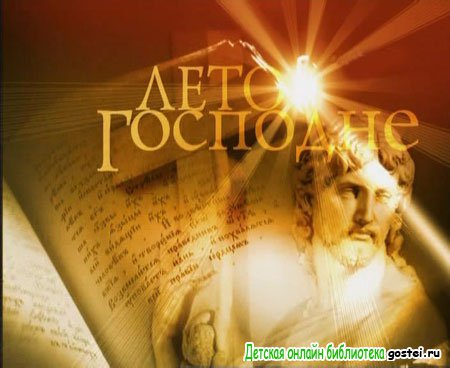
Еще задолго до масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук - для блинов. Земля в ящике черная, из сада,
и когда польют теплой водой - пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого «перышка». Надоест ждать, забудешь, и вдруг - луковки все зазеленели! Это и есть весна.
Солнце стало заглядывать и в залу, - конец зиме. Из Нескучного сада пришел садовник-немец, «старший самый», - будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Фирсанова, такие же у него седые бакенбарды, и, как Фирсанов тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его - «шут карококовый», - «гороховый», - и все говорит - «я-я». Гришка огрызается на него: «якала, шут немецкий». Столовая - будто сад, такой-то веселый кавардак: пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник… и «страшный змеиный цвет». Листья у него длинные, как весла, и никто не видел, как он цветет. Говорят, будто «огнем цветет» совсем змеиная пасть, и с жалом. Немец велит Гришке землю из под него выбросить «в нужни мест, где куры не клюются». Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки: должно быть, им очень страшно. Их собирают в баночку, для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бадеечках. И молчавший всю зиму жавороночек пробует первое журчанье, - словно водичка бульбулькает. Значит, весна подходит.
В ящике густо-зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная: померла Палагея Ивановна, премудрая. Как сказала отцу в Филиповки - так и вышло: повезли ее «парой» на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали.
И в детской у нас весна.
Домнушка посадила моченый горох, он уж высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит, - до неба-то не скоро, не раньше Пасхи. Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься - и видишь, вырос горох до неба, я лезу, лезу… если бы рай увидеть!… Только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, - грехи тянули, а он старуху еще забрал!… - я горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб.
- А праведные… могут до неба?…
- А праведные и без гороха могут, ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся: по гороху, мол, в рай долезу! Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах.
- Это чего - «в сокрушении»?
- Как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж отроча… семь годков скоро, а сокрушения не знаешь! Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони-воздохни: «Господи, милостив буди мне грешному!» Вот те и сокрушение.
- Ты бы уж со мной поговел… меня хотят на Страстной говеть, со всеми, а лучше бы мне с тобой, на «Крестопоклонной», не страшно бы?… Выпроси уж меня, пожалуйста.
Он обещает выпросить.
- Папашенька бы ничего, а вот мамашенька… все-то с мужиками, говорит, слов всяких набираешься.
- Это я «таперича» сказал, а надо говорить - «теперича». А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит… как это?… - чего-то он наложит?…
Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. Чего наложит?…
- Грехи с тобой, уморил!… - смеется Горкин, хоть и Великий Пост. - Да это она про эту… про питимью!
- Какую «пи-ти-мью»?… это чего, а?… страшное?…
- Это только за страшный грех, питимья… и знать те негодится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься… покрестит те батюшка головку на питрахили и отпустит, скажет-помолится - «аз, недостойный иерей, прощаю-разрешаю». Бояться нечего, говенье душе радость. Даст Бог, вместе с тобой и поговеем, припомним с тобой грешки, уж без утайки. Господу, ведь, открываешься, а Он все про нас ведает. Душенька и облегчится, радостно ей будет.
И все-таки мне страшно. Недавно скорняк Василь-Василич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам: такое видение сна ей было, будто уж она померла. И на каждом мытарстве - эти… все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась-трепетала, а за ней Ангел, нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих все-то про все записано, в рукописаниих… все-то грехи, какие и забыла даже. А на последнем мытарстве, самые эти главные, смрадные и звериные, вцепились в нее когтями и стали вопить - «наша она, наша!…» Ангел заплакал даже, от жалости. Да пошарил в пустом уж мешочке, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось! Как показал… - смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались, от скрежета… а пришлось все-таки отпустить.
И вдруг я помру без покаяния?! Ну, поговею, поживу еще, хоть до «Петровок», все-таки чего-нибудь нагрешу, грех-то за человеком ходит… и вдруг мало окажется добрые дел, а у тех все записано! Горкин говорил, - тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут… Скорей бы уж поговеть, в отделку, душе бы легче. А до «Крестопоклонной» целая еще неделя, до исповедальной пятницы, сто раз помереть успеешь.
Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, скорняк со скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже: «когда говеете?… ай поговели уж?…» Говорят, весело так, от облегчения; «отговелись, привел Господь». А то - тревожно, от сокрушения: «да вот, на этой недельке, думаю… Господь привел бы». На третьей у сапожника отговелись трое мастеров, у скорняка старичок «Лисица», по воротникам который, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И бутошник собирается говеть, Горкину говорил вчера. Кучер Гаврила еще не знает, как уж управится, езды много… - как-нибудь да урвет денек. Гришка говеть боится: «погонит меня, говорит, поп кадилом, а надо бы говонуть, как не вертись». Василь-Василич думает на Страстной, с отцом: тогда половодье свалит, Пасха-то ноне поздняя. И как это хорошо, что все говеют! Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым, ведь, час смертный. И будем опять все вместе, встретимся там… будто и смерти не было. Только бы поговели все.
Ну, все-то, все говеют. Приносили белье из бань, сторожиха Платоновна говорила: «и думать нечего было раньше-то отговеться, говельщиц много мылось, теперь посбыло, помаленьку и отговеем все». И кузнец думает говеть, запойный. Ратниковы, булочники, целой семьей говели. Они уж всегда на первой. А пекари отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время - пасхи да куличи. А бараночникам и теперь жара: все так и рвут баранки. Уж как они поговеть успеют?… Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела: два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что она это Михал Панкратыча хочет перещеголять, он два раза говеет только. А Горкин за нее вступился: «этим не щеголяют… а женщина она богомольная, сырая, сердцем еще страдает, дай ей, Господи, поговеть». Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно.
С понедельника, на «Крестопоклонной», ходим с Горкиным к утрени, раным-рано. Вставать не хочется, а вспомнишь, что все говеют, - и делается легко, горошком вскочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах, и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца, я покупаю у Горкина свечки. Будто чужой серьезный, и ставлю сам к главным образам и распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему три копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные.
Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю-воздыхаю о грехах. Холим еще к вечерне, а в среду и пяток - к «часам» еще к обедне, которая называется «преосвященная». Батюшка выходит из Царских Врат с кадилом и со свечой, все припадают к полу и не глядят-страшатся, а он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает все-эх!…» И сразу делается легко и светло: смотрится в окна солнце.
Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный, от Якиманской части, в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. Два знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает - сокрушается о грехах: сколько, может, обвешивал народу!… Может, и меня обвешивал и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно - «Господи и Владыко живота моего…» - все рухаемся на колени и потом, в тишине-сокрушении, воздыхаем двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного…» После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки: пусть помолятся за нас, грешных.
Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласкова, называет - «великий постник». Отец все справляется - «ну, как дела, говельщик, не заслабел?». Он не совсем веселый, «разные неприятности», и Кавказка набила спину, приходится седлать Стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать; норовистая, всего пугается, - иноходец, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой, не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка, жаренного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет, говорит - «отшибло, после того…». Я знаю почему… - ему противно от того сна: как огромная, «вся гнилая», рыба-белуга вплыла, без воды, к нам в залу и легла «головою под образа»… Теперь ему от всякой рыбы «гнилью будто попахивает».
Домнушка спрашивает, как мне мешочек сшить, побольше или поменьше, - понесу батюшке грехи. Отец смеется; «из-под углей!» И я думаю - «черные-черные грехи…».
Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в «тридцатку», где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело: «ничего, все грехи отмоем». В бане - отец протодьякон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину: «а, кости смиренные… па-риться пришли!» - густо, будто из живота. Я гляжу на него и думаю: «Крестопоклонная», а он моченые яблоки мякает… и живот у него какой, мамона!…» А он хряпает и хряпает.
Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит: «ох, грехи наши тяжкие…» А это мясник лощегов. Признал нас и говорит: «говеете, стало быть… а чего вам говеть, кожа да кости, не во что и греху вцепиться». Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодьякон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок: «ну, говельщик, грехи-то смыл?» - и угостил капусткой, яблоки-то все съел.
Выходим мы из бани, и спрашиваю я Горкина:
- А протодьякон… в рай прямо, он священный? и не говеет никогда, как батюшка?
- И они говеют, как можно не говеть! один Господь без греха.
Даже и они говеют! А как же, на «Крестопоклонной» - и яблоки? чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно… только бы поговеть успеть.
В пятницу, перед вечерней, подходит самое стыдное: у всех надо просить прощение. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня:
- А вот и не прощу!
Горкин его усовестил, - этим шутить не годится. Он поломался маленько и сказал, важно так:
- Ну, ладно уж, прощаю! А я перед ним, правда, очень согрешил: назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком, да и скажи - «с семгой еще ели». Он меня на смех и поднял: «как так, с Се-мкой? мальчика Семку ты съел?!» - прямо, до слез довел. Я стал ему говорить, что не Семку, а се-мгу. Такая рыба, красная… - а он все на смех: «мальчика Семку съел!» Я схватил лопату да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчал:
«Ну, ты мне за эту лопату ответишь!» И с того проходу мне не давал. Как завидит меня - на весь-то двор орет: «мальчика Семку съел!» И другие стали меня дразнить, хоть на двор не показывайся. Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился, тогда только и перестали.
И Василь-Василич меня простил, по-братски. Я его Косым сколько называл, - и все его Косым звали, а то у нас на дворе другой еще Василь-Василич, скорняк, так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощенья просил: «да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь… ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались, мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась.
Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, - как я в Чистый Понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу, - за досками несла яички, в самоседки готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить - «не сказывай, смотри, мамаше… на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал:
- Это на Гришке грех, он тебя искусил, как враг. Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем, а Гришка и говорит: «вот, годи… заставит тебя поп на закорках его возить!» Я ему говорю, что это так, нарочно, шутят. А он мне - «а вот увидишь «нарошно»… а зачем там заслончик ставят?» Душу мне и смутил, хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился, а Гришке сказал:
- Ах, ты… пропащая твоя душа!…
Перекрестились мы и пошли. А это все тот: досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение - рассердит.
Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много понабралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по одному, со свечкой. Вспомнил я про заслончик - душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил - это чтобы исповедники не смущались, тайная исповедь, на духу, кто, может, и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты, для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует три копейки, а я плачу.
- Ты чего плачешь… сокрушаешься? - спрашивает. А у меня губы не сойдутся.
У свещного ящика сидит за столиком протодьякон, гусиное перо держит.
- Иди-ка ко мне!… - и на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало: большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет, - грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал: как в Филиповки протодьякон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодьякона, что на «Крестопоклонной» моченые яблоки вкушает и живот у него такой. Сказать?… ведь у тех все записано. Порешил сказать, а это он не грехи записывает, а кто говеет, такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня, из живота: «о грехах воздыхаешь, парень… плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». И провел перышком по моим глазам.
Нас пропускают наперед. У Горкина дело священное - за свещным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут: «пожалуйте наперед, Михал Панк ратыч, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное, Я думаю: «и пожаров не боится, а тут боится». Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, - опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога: выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой, много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, - оплакивает грехи?
- Ну, иди с Господом… - шепчет Горкин и чуть поталкивает, а у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл.
Он ведет меня за руку и шепчет - «иди, голубок, покайся». А я ничего не вижу, глаза застлало. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и о. Виктора. Он манит меня и шепчет: «ну, милый, откройся перед Крестом и Евангелием, как перед Господом, в чем согрешал… не убойся, не утаи…» Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «ну, папашеньку-мамашеньку не слушался…» А я только про лапку помню.
- Ну, что еще… не слушался… надо слушаться… Что, какую лапку?…
Я едва вышептываю сквозь слезы:
- Гусиная лапка… гу… синую лапку… позавидовал… Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гладит меня по головке и вздыхает:
- Так, умник… не утаил… и душе легче. Ну, еще что?…
Мне легко, и я говорю про все: и про лопату, и про, яичко, и даже как осуждал о. протодьякона, про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших.
- Ишь, ты, какой заметливый… - и хвалит за «рачение» о душе.
Но я не понимаю, что такое - «рачение». Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. И я радостно слышу: «…прощаю и разрешаю».
Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят, - очень я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко.
После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке заздравную просвирку. На мне новый костюмчик, матросский, с золотыми якорьками, очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку «ландринчика» - монпансье: «телу во здравие, душе во спасение, с причастимшись!» Матушка дарит «Басни Крылова с картинками, отец - настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и «водяного соловья»: если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами - флердоранжем. Все очень ласковы, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову: «от тебя так святостью и пахнет, ты теперь святой - с молока снятой». И правда, на душе у меня легко и свято.
Перед парадным чаем с душистыми «розовыми» баранками, нам с Горкиным наливают по стаканчику «теплотцы», - сладкого вина-кагорцу с кипяточком, мы вкушаем заздравные просвирки и запиваем настояще-церковной «теплотцой». Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром, - особенный чай, священный. И все называют нас уважи тельно: причастники.
День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабели досок, на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы - серафимы-херувимы, гуляют угодники и святые… и, должно быть, прабабушка Устинья и Палагея Ивановна… и дедушка, пожалуй, и плотник Мартын, который так помирал, как дай Бог всякому. Гадаем-домекаем, звонят ли в раю в колокола?… Чего ж не звонить, - у Бога всего много, есть и колокола, только «духовные», понятно… - мы-то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывает в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим-гадаем… И вдруг, подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик: «матрос… в штаны натрЈс!» Сразу нас - как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался-вспомнил, что это мне искушение, от того. И говорю ласково, разумно, - Горкин потом хвалил:
- Нехорошо, Гриша, так говорить… лучше ты поговей, и у тебя будет весело на душе.
Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит, что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку, - «так, говорит, и надо!». Глядим, Гриша опять подходит… и дает мне хорошую «свинчатку» - биту, целый кон бабок можно срезать! И говорит, очень ласково:
- Это тебе от меня подарочек, будь здоров. И стал совсем ласковый, приятный. А Горкину сапоги начистить обещался, «до жару!» И поговеть даже посулился, - три года, говорит, не говел, и вы меня разохотили».
Подсел к нам, и мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах, и лицо было светлое, такое, божественное совсем, как у святых стареньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет, и какая это премудрость-радость - от чистого сердца поговеть!…
 Главная
Главная Сказки
Сказки